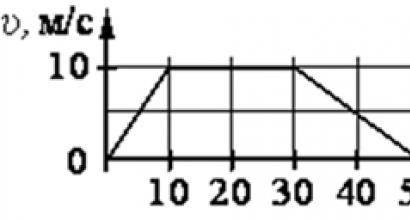Умолчания в рассказе К. Паустовского Телеграмма
«Телеграмма» — произведение, написанное Паустовским. В Википедии можно подробнее узнать об авторе и его творчестве.
Паустовский обращается к теме «отцов и детей», что, безусловно, не оставит читателя безразличным. Проблема актуальная, острая, свойственна каждому, у кого есть или была семья. Краткое содержание «Телеграммы» Паустовского позволит проникнуться теми переживаниями, что заложил в неё автор, почерпнув основную идею.
Вконтакте
А также познакомиться с героями и понять причины их поступков. Для полноты картины при необходимости лучше, конечно, ознакомиться с текстом целиком. Он занимает всего двенадцать машинописных страниц.
Анализ произведения «Телеграмма»
Структура
Рассказ перед нами или повесть? «Телеграмма» Паустовского — короткий рассказ . Его можно условно поделить на пять частей, каждая из которых несёт определённую смысловую нагрузку в сюжете:
- О матери
- О дочери
- Тревожная весть
- Трагичная развязка
- Итог.
Первая часть — представление матери, Катерины Петровны. Рассказывается о том, что старушка живёт в глухой деревне одна и имеет дочь. Вторая часть — знакомство с Настей, описание её работы. В третьей происходит кульминационный момент — зарождение и отправка самой телеграммы матерью о своей болезни. Там же неравнодушный ко всему мужик Тихон высылает ответ якобы от дочери для Катерины Петровны. Но та понимает и благодарит его за душевный порыв , не получая, однако, истинного письма от Насти. В четвёртой дочь приезжает, да не застаёт мать живой. И в пятой происходит переосмысление ею своего поступка, подведение итогов.
О чём сюжет: короткое содержание
 Читайте краткое содержание и узнаете что: Катерина Петровна доживает свой век в удалённой от города деревушке. Её дом был построен ещё дедом, талантливым художником. Женщина малообщительна и практически не имеет контактов с односельчанами, но у неё есть дочь, занимающаяся важной работой и высылающая матери денег. В какой-то момент Катерина Петровна понимает, что смертельно больна и хочет повидаться с дочерью напоследок, в чём и просит её в телеграмме. Однако Настя не принимает письмо
всерьёз и выезжает спустя две недели, когда узнаёт, что смерть матери не за горами. Девушка опаздывает на похороны и испытывает горечь, запоздалое раскаяние за свою медлительность.
Читайте краткое содержание и узнаете что: Катерина Петровна доживает свой век в удалённой от города деревушке. Её дом был построен ещё дедом, талантливым художником. Женщина малообщительна и практически не имеет контактов с односельчанами, но у неё есть дочь, занимающаяся важной работой и высылающая матери денег. В какой-то момент Катерина Петровна понимает, что смертельно больна и хочет повидаться с дочерью напоследок, в чём и просит её в телеграмме. Однако Настя не принимает письмо
всерьёз и выезжает спустя две недели, когда узнаёт, что смерть матери не за горами. Девушка опаздывает на похороны и испытывает горечь, запоздалое раскаяние за свою медлительность.
Герои рассказа
Всех героев можно поделить на группы:
- главные действующие: мать Катерина, дочь Настя
- второстепенные действующие. В деревне: пожилой сторож Тихон, соседка девочка Манюшка. У Насти: скульптор Тимофеев.
- Третьестепенные действующие лица — жители деревни на похоронах. Почтарь, учительница и т.д.
- недействующие: отец Катерины Петровны, художник. Здесь можно выделить и скульптуру Гоголя — она говорит в сознании Насти голосом совести. Тем самым через неё читатель знакомится с авторской позиции произведения.
Главные герои в «Телеграмме»
 Катерина Петровна, вероятнее всего, происходит из дворянского рода. Паустовский намекает, что она воспитывалась в интеллигентной семье, разбирающейся в искусстве. В молодости женщина бывала в обществе творческих людей, а в Париже застала похороны Виктора Гюго. Катерина Петровна образованна и духовно развита.
Катерина Петровна, вероятнее всего, происходит из дворянского рода. Паустовский намекает, что она воспитывалась в интеллигентной семье, разбирающейся в искусстве. В молодости женщина бывала в обществе творческих людей, а в Париже застала похороны Виктора Гюго. Катерина Петровна образованна и духовно развита.
Но в деревне она никому не нужна , ей не с кем обмолвиться словом. У женщины шикарный гардероб дворянки, небывалая там роскошь. Тем не менее находятся небезразличные знакомые, которые навещают старушку. Среди них и сторож Тихон, и девочка, и почтальон. Катерина Петровна ждёт участия только от одного человека — своей дочери. Та присылает ей скупые отписки, ссылаясь на занятость. Мать и боится лишний раз потревожить своими телеграммами, лишь единожды не выдержав и отправив её первой. Когда находится при смерти.
Настя — неопытна и только познаёт мир вокруг себя. В ней много амбиций и иллюзий. Девушка кажется душевной и трепетной, но своей матери уделяет мало внимания. Откликается на призыв о помощи не с первого раза, да и то на чужое письмо.
Роль Тихона
Тихон — работяга , малограмотный, но искренний и отзывчив душой к чужим бедам. Он — сторож в доме умирающей женщины. В его сердце ещё живы воспоминания об отце Катерины Петровны, Тихон уважает и её саму, как образованную и вежливую даму. Он проникается её бедой и составляет ответное письмо якобы от дочери. Несмотря на то, что обман был понят женщиной , старушка поблагодарила Тихона за участие. А сам его поступок можно считать бескорыстным порывом души, светлой и доброй. Его телеграмма — символ рассказа.
Вместо заключения
 Настя раскаивается, да поздно. Из деревни уезжает в слезах, ей стыдно. Паустовский не даёт конкретной оценки поведению девушки. Но через скульптуру Гоголя как бы передаёт зов совести и разума. Настя чувствует на себе, как была неправа, как опрометчиво поступила, откладывая последнюю встречу с матерью.
Настя раскаивается, да поздно. Из деревни уезжает в слезах, ей стыдно. Паустовский не даёт конкретной оценки поведению девушки. Но через скульптуру Гоголя как бы передаёт зов совести и разума. Настя чувствует на себе, как была неправа, как опрометчиво поступила, откладывая последнюю встречу с матерью.
В результате читатель понимает , что дочь, какой бы чёрствой ни казалась, всё же пробудилась и признала свою вину, пусть и тяжёлым крестом станет для неё теперь эта ошибка. Всё-таки рассказ несёт в себе светлую мысль и даёт возможность учиться на чужих ошибках. Любить и беречь своих родителей, пока те живы, а не думать только об эгоистичных желаниях.
Читайте короткое произведение Паустовского и делайте собственные выводы.
1.
В 1937-ом году Паустовским был написан цикл небольших рассказов " Летние дни" (на материале повести " Золотая роза"), в 1939-ом году повесть " Мещёрская сторона", о природе и жителях рязанской земли. Материал о судьбе дочери художника, лёгший в основу рассказа " Телеграмма", мы находим в повести " Золотая роза" в главе " Зарубки на сердце". В этой главе автор делится с читателем тем, что послужило написанию "Телеграммы". Таким образом можно предположить, что это произведение было создано Паустовским в 30-е годы прошлого столетия, в период его жизни на рязанской земле, в мещёрском крае, хотя конкретную дату создания этой психологической новеллы, занимающей особое место в период развития в советской литературе метода социалистического реализма, мне так и не удалось разыскать.
Рассказ К.Г.Паустовского " Телеграмма" не изучался в советской школе и был включён только немногим более десяти лет тому назад в некоторые программы по литературе современной российской школы для учащихся восьмых классов.
Сюжет рассказа прост: старая больная женщина, не дождавшись приезда своей дочери-ленинградки к ней, в далёкую рязанскую деревню, умирает. Дочь, Настя, получившая телеграмму о плохом состоянии матери и ещё не знающая о её смерти, добирается до Заборья только на второй день после похорон Катерины Петровны.
В Интернете размещено несколько школьных разработок уроков по этому рассказу, в которых особо выделяется нравственная линия произведения (отрыв взрослых детей от престарелых родителей) с целью воспитания в учениках душевности, сердечности и внимания к своим близким.
У меня же после недавнего перечитывания рассказа " Телеграмма" (а надо сказать, что лет 16 тому назад, работая в лицее, я сама давала восьмиклассникам и учителям своего города открытый урок по этому произведению, делая, как помню, упор на ту же проблему " отцов и детей") возникло желание исследовать этот текст глубже и поразмышлять над теми его сторонами, которые не лежат на поверхности.
2.
Система действующих лиц рассматриваемого нами текста включает в себя две группы участников событий.
1-я группа - жители села Заборье: дочь когда-то широко известного русского художника из Петербурга, построившего в этой деревне дом, Катерина Петровна, обитающая после смерти отца в этом же доме; её соседи-односельчане: сторож при пожарных сараях - Тихон, дочка соседа-сапожника Манюшка, молодая учительница, почтарь Василий, старухи, хоронившие Катерину Петровну.
2-я группа лиц объединена вокруг дочери главной героини, Насти, секретаря Союза художников, давно живущей отдельно от матери в Ленинграде. К этой группе можно отнести талантливого, но затираемого начальством и коллегами молодого скульптора Тимофеева, его удачливого соперника по цеху Першина; не названных по имени председателя Союза художников и старого мастера, встревожившегося по поводу получения Настей телеграммы, а также, словно ожившую, скульптуру Н.В. Гоголя, талантливо выполненную Тимофеевым и как бы осуждающую Настю за невнимание к матери.
3.
Что же и кто остаётся " за кадром" при взаимодействии всех перечисленных лиц?
Конечно же, не ясно, кто был мужем Катерины Петровны и отцом Насти. Дочь художника доживает свой век среди картин отца, украшающих старый дом, и картин его друзей. Другом отца был сам художник Крамской, чей подарок, маленький эскиз к его картине " Неизвестная", занимает почётное место на стене рядом с портретом бывшего хозяина этого дома.
Упоминания о портретах, фотографиях, наконец, о могиле мужа - нет. Где он остался (в Петербурге, в Ленинграде ли), жив ли, какую роль сыграл в судьбе Катерины Ивановны и дочери Насти, - не сказано, но хочется "зацепиться" за одну деталь.
4.
"Художники звали её Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза", - читаем мы о Насте, секретаре Союза художников. Упоминание имени Сольвейг в контексте произведения, видимо, не случайно, если следовать художественному закону, что любая деталь в произведении необходима для понимания скрытого в тексте. Сольвейг - героиня поэмы " Пер Гюнт" норвежского писателя Генрика Ибсена. Она была написана в 1867 году.
Образ Сольвейг, как образ любящей женщины, всю жизнь ждущей своего наречённого, был ещё более опоэтизирован композитором Эдвардом Григом, написавшим, по просьбе автора, музыку к драме и включившим туда " Песню Сольвейг" (кто автор слов песни - не ясно).
5.
Конечно, люди искусства не могли не знать и стихотворения Александра Блока "Сольвейг" (20 февраля 1906 год), использовавшего эпизод ухода молодой девушки Сольвейг из семьи к преследуемому односельчанами Перу Гюнту. Сольвейг прибегает на лыжах ранней весной к возлюбленному в лес, где он только что закончил строить избушку для себя.
Вот эти стихи:
Александр Блок
Сольвейг
Сергею Городецкому
Сольвейг прибегает на лыжах.
Ибсен. "Пер Гюнт"
Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне,
Улыбнулась пришедшей весне!
Жил я в бедной и темной избушке моей
Много дней, меж камней, без огней.
Но веселый, зеленый твой глаз мне блеснул -
Я топор широко размахнул!
Я смеюсь и крушу вековую сосну,
Я встречаю невесту - весну!
Пусть над новой избой
Будет свод голубой -
Полно соснам скрывать синеву!
Это небо - твое!
Это небо - мое!
Пусть недаром я гордым слыву!
Жил в лесу, как во сне,
Пел молитвы сосне,
Надо мной распростершей красу.
Ты пришла - и светло,
Зимний сон разнесло,
И весна загудела в лесу!
Слышишь звонкий топор? Видишь
радостный взор,
На тебя устремленный в упор?
Слышишь песню мою? Я крушу и пою
Про весеннюю Сольвейг мою!
Под моим топором, распевая хвалы,
Раскачнулись в лазури стволы!
В декабре 1906 года Блок пишет новое стихотворение: "Сольвейг! О, Сольвейг! О, Солнечный Путь!", где в самых первых строчках раскрывает значение имени Сольвейг (в переводе с древнескандинавского - " солнечный путь" или " солнечная сила":
Сольвейг! О, Сольвейг! О, Солнечный Путь!
Дай мне вздохнуть, освежить мою грудь!
В темных провалах, где дышит гроза,
Вижу зеленые злые глаза.
Ты ли глядишь иль старуха-сова?
Чьи раздаются во мраке слова?
Чей ослепительный плащ на лету
Путь открывает в твою высоту?
Знаю - в горах распевают рога,
Волей твоей зацветают луга.
Дай отдохнуть на уступе скалы!
Дай расколоть это зеркало мглы!
Чтобы лохматые тролли, визжа,
Вниз сорвались, как потоки дождя,
Чтоб над омытой душой в вышине
День золотой был всерадостен мне!
Декабрь 1906
6.
Разве могли советские ленинградские художники (в романтическом отношении к женщине им, к счастью, не откажешь), называя Настю именем Сольвейг, иметь в виду только цвет её волос и "холодность глаз" (последний эпитет можно расценивать как указание на скандинавское происхождение героини Ибсена, а не на её характер и душу)?..
Скорее всего это намёк на избирательность Насти, как женщины, намёк на какую-то её личную тайну (верна, как Сольвейг, одному человеку) или, если она занимается устройством их жизни и быта, то она для них " солнечный путь", или... невольно начинаешь думать, как о Сольвейг, о другой, уже состарившейся женщине - о Катерине Петровне. Ведь Настя внешне может повторять черты молодой матери.
7.
Однако необходимо помнить, что история Сольвейг в пьесе потрясала именно своим финалом: более сорока лет героиня прожила в избушке, построенной Пером Гюнтом, в то время как он был вынужден бежать и из леса, пространствовав по миру и, наконец, вернувшись в Норвегию. Судьба подарила в конце жизни женщине за верность встречу с любимым, и он видит, что его дождалась только она.
Так истинной героиней становится не Сольвейг молодая, а Сольвейг старая. Невольно мыслью обратишься к Катерине Петровне.
Знала ли Катерина Петровна эти стихи А.Блока и саму пьесу Ибсена в немецком переводе (русский перевод " Пера Гюнта" был издан в СССР впервые в 1956 году), послужившую основой для стихотворени Блока " Сольйвег"? А отчего же нет. Художники дворянской России и члены их семей дружили не только с художниками, но и с поэтами, писателями и композиторами своего времени, а их дети получали прекрасное классическое образование. Это сейчас для неё в селе нет никого, "с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго". О той ушедшей далёкой жизни свидетельствуют и пылящиеся в нетопленных комнатах журналы " Вестника Европы", которые сейчас некому читать.
При таких умолчаниях несомненно одно: благодаря отцу, Катерина Петровна вращалась в молодости в среде творческой интеллигенции, а значит, отец играл в жизни дочери огромнейшую воспитательную и развивающую роль, так как дочерние воспоминания о нём отражены не только в упоминании художественных полотен.
8.
Немного о журнале " Вестник Европы". Отец Катерины Петровны и она сама читали номера этого русского литературно-политического ежемесячника умеренно-либеральной ориентации, издававшегося В Санкт-Петербурге с 1866-го года по 1918 год и, скорее всего, были подписаны на него. В журнале печатались известные учёные и публицисты: И.И.Мечников, С.М.Соловьёв, А.Ф.Кони, А.Н.Пыпин и др. В литературном отделе " Вестника Европы" можно было прочесть новые произведения русских писателей - И.С.Тургенева, А.Н.Гончарова, А.Н. Островского, В.С.Соловьёва, М.Е.Салтыкова-Щедрина. На этой классической литературе выросла дочь художника.
Летом 1885 года, вместе с отцом живя в Париже (одна из множественных привилегий дворянского класса), Катерина Петровна присутствовала при грандиозном событии - похоронах гениального французского писателя Виктора Гюго (он умер 22 мая 1885 года и был похоронен 1 июня).
Вот как описывает эти события мастер жанра романизированной биографии французский писатель Андре Моруа:
"Торжественное похоронное шествие проводило Виктора Гюго с площади Звезды до Пантеона. За гробом шло два миллиона человек. На улицах, по которым катился этот поток людей, с обеих сторон к столбам фонарей были прикреплены щиты и на каждом написано заглавие какого-нибудь его произведения: "Отверженные", "Осенние листья", "Созерцания","Девяносто
третий год". В фонарях, горевших среди бела дня и окутанных крепом, трепетали бледные огни. Впервые в истории человечества нация воздавала поэту почести, какие до тех пор оказывались лишь государям и военачальникам" ("Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго").
Можно сказать, что в последний путь писателя провожала не только вся Франция, но и вся Европа, поскольку похоронная процессия включала как высоких представителей многих европейских стран, так и добровольцев, добравшихся в эти дни до Парижа.
Останки Гюго были помещены в Пантеон, рядом с Вольтером и Жан Жаком Руссо.
9.
Катерину Петровну хоронят в начале ноября под первый морозец и " весёлый запах" первого "перепархивающего" снежка. За гробом идут несколько сельских старух и ребятишек, гроб несут два местных старичка. Попалась навстречу и молодая учительница и отдала дань покойнице, проводив её на кладбище и выслушав мнение бабки Матрёны о странной жительнице их села: "... И такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем ей слова сказать. Такая жалость!.."
С помощью антитезы двух похорон мировая известность Гюго невольно сопоставляется автором рассказа с безвестностью бывшей русской дворянки, прожившей полную лишений и обид жизнь на родине и обретшей наконец покой в родной земле. Эта антитеза сообщает нам, как важна жизнь каждого из нас на земле, важна любая, пусть и не известная широким массам, судьба.
Но русская земля, несмотря на опоздание к матери дочери Насти, приняла Катерину Петровну с любовью и миром, что дано в рассказе в нескольких упоминаниях:
"Старухи кланялись гробу, дотрагивались тёмными руками до земли".
"За оградой, в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля".
"... стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи - предсказывали ясные дни, лёгкие морозы, зимнюю тишину".
Однако неясно, почему Катерина Петровна не была похоронена рядом с отцом, судя по всему лежащим на этом же кладбище, почему никто из стариков не вспомнил над её могилой о том, что она дочь художника, жившего здесь.
Не потому ли, что жители села, посещавшие её дом и оказывавшие старушке посильную помощь, оставались равнодушными к картинам на стенах избы, не понимая их смысла, значимости и ценности. Никто из жителей, кроме Тихона, не помнит старого художника (но на похоронах Тихон так же не поминает отца Катерины Петровны), не знает о его вкладе в российское искусство, хотя его дом "был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрёт она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала".
Так показана духовная пропасть между Россией интеллигенции и Россией крестьянства уже в советские времена. Да и охраны дома со стороны областного музея в рассказе что-то не наблюдается. Тихон же "рубил в саду засохшие деревья, и пилил их, колол на дрова" - вот и вся охрана дома и сада.
10.
Но вернёмся к мысли о Сольвейг. В рассказе есть указания на то, что несмотря на свою старческую немощь, почти полную слепоту, Катерина Петровна могла себя ощущать героиней Ибсена, находясь в состоянии очень долгого ожидания:
"Как то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.
Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову тёплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.
Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:
Кто стучит?
Но за забором никто не ответил.
Должно быть, почудилось, - сказала Катерина Петровна и побрела назад".
Представим, кто мог бы "стучать в заколоченную уже несколько лет калитку сада", если бы Катерине Петровне это не почудилось. Конечно, не умерший отец (мистика), и не приехавшая из Ленинграда Настя, которая знала, как открыть действующую калитку, поскольку хоть и редко, но всё же навещала мать. К тому же Настя, вряд ли бы добиралась ночью, так как до Заборья от поезда надо было трястись на "тряской телеге".
"Стучал" тот, от кого старая женщина хотела бы услышать этот стук. Недаром она нашла в себе силы "впервые за этот год выйти из дома", да ещё ночью.
11.
Имя Настиного отца упоминается в тексте два раза через её отчество: Анастасия Семёновна. Отца Насти и, видимо, мужа Катерины Петровны звали Семёном - вот и всё, что мы о нём знаем.
В первый раз мы узнаём имя отца Насти из выступления художника Першина на обсуждении выставки скульптора Тимофеева:
"Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны - да не в обиду будет сказано нашему руководству - одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семёновне".
Обращение по работе по имени-отчеству было правилом в советские времена.
Второй раз её отчество прозвучало перед смертью Катерины Петровны, когда Тихон приносит умирающей лжетелеграмму, посланную якобы Настей, а на самом деле написанную им самим в соавторстве с почтарём Василием:
Да кому же другому, как не Настасье Семёновне, - ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. - Кому, как не ей.
Тихон лжёт, что Настя уже подъезжает по " сбитой морозцем дороге" к Заборью.
Тихон называет Настю полным именем на народный манер Настасьей, а отчество прибавляет в знак уважения к этой семье, хотя саму Настю (это прозвучит позднее)опрометчиво причисляет к разряду пустых, легкомысленных людей, именуемых в народе "пустельгой".
12.
Остаётся предположить, что автор знал человека, которому он дал имя Семён и чьё имя он дважды повторил в тексте. Раздумья и воспоминанья об этом человеке глубоко спрятаны между строк, это герой, которого в 30-е годы в СССР ещё рано было выводить в литературе. Он не мог быть эмигрантом, так как эмигрировали семьями. Он не мог быть человеком, ушедшим в другую семью и прекратившим по этой причине отношения со своей дочерью. Иначе почему же тогда всю жизнь ждёт " сгорбленная, маленькая" Катерина Петровна кого-то, всё перебирая "какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле" ?.. Он мог погибнуть в годы гражданской войны, но не на стороне красных, иначе его героическая гибель была бы в тексте отражена.
В таких кожаных ридикюлях хранились и любовные письма молодости, и лживые ответы ("какие-то бумажки") из органов, полученные при сделанных запросах о судьбе и месте пребывания арестованного и вырванного из прежнего мира так называемого " врага народа", лишённого права переписки.
Расстрел, последовавший сразу после ареста, в большинстве случаев покрывался лживо-"утешительной" справкой о смерти от болезней в лагере. Но близкие не переставали надеяться и ждать.
Последний вариант судьбы Семёна - самый страшный и изуверский для его близких. Закономерная смерть от болезни в кругу семьи не должна бы была так подорвать и согнуть родных ему людей, как обвинение порядочного и честного человека в приписываемых ему политических грехах, что роковым образом отражалось на судьбе каждого члена его семьи.
Значит, всё же не "чёрствость" Насти, так огульно приписываемая ей в школьных разработках этого произведения, лежит в основе душевных страданий и тоски, окончательно подорвавших здоровье старой женщины, а бездушность и бессердечность государственной машины.
13.
Уже после того, как была написана значительная часть этой статьи, мною были найдены любопытные материалы о прототипах рассказа " Телеграмма", оставленные самим Паустовским в его повести" Золотая роза", в главе под названием " Зарубки на сердце". Привожу цитаты из этой главы:
"Я поселился поздней осенью в деревне под Рязанью, в усадьбе известного в свое время гравера Пожалостина. Там одиноко доживала свой век дряхлая ласковая старушка - дочь Пожалостина, Катерина Ивановна. Единственная ее дочь Настя жила в Ленинграде и совсем позабыла о матери - она только раз в два месяца присылала Катерине Ивановне деньги.
Я занял одну комнату в гулком, большом доме с почернелыми бревенчатыми стенами. Старушка жила на другой половине. К ней надо было проходить через пустые сени и несколько комнат со скрипучими, пыльными половицами.
Кроме старушки и меня, в доме больше никто не жил. Дом этот считался мемориальным.
Позади двора с обветшалыми службами шумел на ветру большой и такой же запущенный, как и дом, сырой и озябший сад.
Я приехал работать и первое время писал у себя в комнате с утра до темноты".
"Я не изучал тот старый дом, где жил, как материал для рассказа. Я просто полюбил его за угрюмость и тишину, за бестолковый стук ходиков, постоянный запах березового дыма из печки, старые гравюры на стенах (их осталось очень мало, так как почти все гравюры у Катерины Ивановны забрал областной музей): "Автопортрет" Брюллова, "Несение креста", "Птицелов" Перова и портрет Полины Виардо".
"По вечерам я приходил к Катерине Ивановне пить чай.
Она сама уже плохо видела, и к ней прибегала раза два-три за день для всяких мелких хозяйственных поделок соседская девочка Нюрка, по характеру своему угрюмая и всем недовольная.
Нюрка ставила самовар и пила с нами чай, громко высасывая его из блюдечка. На все тихие речи Катерины Ивановны Нюрка отзывалась только одними словами:
- Ну вот еще! Чего выдумали!
Я ее стыдил, но она и мне говорила:
- Ну вот еще! Будто я ничего не понимаю, будто я совсем серая!
Но на деле Нюрка, пожалуй, единственная любила Катерину Ивановну. И вовсе не за то, что иногда Катерина Ивановна дарила ей то старую бархатную шляпу с чучелом птицы колибри, то стеклярусовую наколку или желтое от времени кружевце.
Катерина Ивановна жила когда-то с отцом в Париже, знала Тургенева, была на похоронах Виктора Гюго. Она рассказывала мне об этом..."
"Катерина Ивановна никогда не выпускала из рук старенькую атласную сумочку. Там у нее хранились все ее богатства: письма Насти, скудные деньги, паспорт, фотография той же Насти - красивой женщины с тонкими изломанными бровями и затуманенным взглядом - и пожелтевшая фотография самой Катерины Ивановны, когда она была еще девушкой, - воплощение нежности и чистоты".
"Жёлтые от старости письма, оставшиеся от отца", превратились в рассказе просто в " какие-то бумажки", что и даёт повод читателю, вряд ли знакомому с приведёнными мною отрывками из " Зарубок на сердце", составлять своё мнение, исходя из умолчаний в тексте, ведь художественное произведение не есть точный слепок с какой-то одной жизненной ситуации, а сплав многих и многих составляющих.
14.
В " Зарубках на сердце" Паустовский пишет, что именно он отослал Насте телеграмму о смерти её матери, а затем вот как описывает прощание с Катериной Ивановной:
"Нюрка (в рассказе Манюшка), задыхаясь от плача, дала мне помятый конверт и сказала:
- Тут Катерина Ивановна велела, в чём её хоронить.
Я вскрыл конверт, прочел несколько слов, написанных дрожащей старческой рукой, - приказ о том, что на неё надеть после смерти, - и отдал записку женщинам, что пришли утром прибрать Катерину Ивановну в последний её путь.
Потом я пошел на кладбище выбрать место для могилы, а когда вернулся, Катерина Ивановна уже лежала прибранная на столе, и я остановился, поражённый.
Она лежала тоненькая, как девушка, в старинном бальном платье золотистого цвета, со шлейфом. Шлейф был свободно обёрнут вокруг её ног. Из-под него были видны маленькие черные замшевые туфли. На руках, державших свечу, были туго натянуты до локтя белые лайковые перчатки. Букет из шелковых алых роз был приколот к её корсажу.
Лицо было закрыто фатой, и если бы не сухие, сморщенные локти, видневшиеся между рукавом и краем белых перчаток, то можно было бы подумать, что это лежит молодая и стройная женщина.
Настя опоздала на три дня и приехала уже после похорон".
Из этого отрывка очевидно, к какому классу принадлежала Катерина Ивановна (а значит, и Катерина Петровна в рассказе " Телеграмма"), и понятно, по какой причине нельзя было в советские времена изучать этот рассказ в школе - слишком уж велики были симпатии автора к "пережиткам" дворянского прошлого.
15.
Достаточно интересным является в рассказе " Телеграмма" и вопрос об именах.
Автор оставил своей героине имя главного прототипа - Екатерина (в тексте - Катерина). В переводе с греческого - " чистая, непорочная", того же корня, что и слово " катарсис" - очищение.
Да, тяжелейшие прожитые годы не запятнали её чистую жизнь, её светлую душу.
Оставлено и имя дочери - Настя. Полное её имя - Анастасия - невольно являлось напоминанием о столь ещё недавних событиях казни большевиками императорской семьи. Младшую из дочерей звали Анастасией, и ходили упрные слухи о том, что она не была расстреляна и каким-то чудесным образом уцелела.
Имя Анастасия (в переводе с греческого " воскресение", " возвращённая к жизни") сохранялось в интеллигентной образованной среде и до, и после революции в России: вспомним младшую сестру поэтессы Марины Цветаевой - Анастасию Цветаеву, актрису советского кино, младшую дочь певца Александра Вертинского - Анастасию Вертинскую и др.
Несомненно, напрашивается параллель значения имени Насти в " Телеграмме" с её " возвращением" к духовной жизни, к пониманию истинных ценностей в связи с пережитой ею дочерней драмой.
16.
Настя, "ненаглядная" дочь Катерины Петровны, такая же одинокая, как и её мать, женщина, наверное, ещё молодая, но неопределённого возраста. Ей может быть между тридцатью и сорока, ведь слишком молодой девушке вряд ли бы доверили в те годы такой важный пост, как секретарь в Союзе художников Ленинграда. Конечно, Настя - член КПСС, поскольку на такие должности назначали только партийных.
Занятость Насти людям, жившим и работавшим в советские времена, будет очень понятна: это не только её личная прихоть - работы было всегда через край - не принадлежать себе даже после рабочего дня, а посвящать своё время неоплачиваемым общественным делам. Такой образ жизни в советской стране был в порядке вещей.
Кроме того не будем забывать, что партия учила молодёжь "раньше думать о Родине, а потом о себе", семейные ценности отрицались и девальвировались, и Настя, вне сомнения, была продуктом этого времени.
Хотя, по словам художника Першина, Настя является "одной из рядовых сотрудниц Союза", но тем не менее её зарплата позволяла ей один раз в два-три месяца слать матери по двести рублей. Большие ли это были деньги? Средняя заработная плата по стране в 1936-ом году составляла 207 рублей, а у Насти она могла быть менее средней, так как работа секретаря при любом учреждении оплачивалась невысоко.
Таким образом Настя систематически посылала матери приблизительно одну вторую часть от своей зарплаты, но и того, видимо, хватало только на скромное пропитание и лекарства, ведь мы не заметили, чтобы Катерина Петровна расплачивалась с заботящимися о ней соседями деньгами, чья помощь была равносильна тимуровской.
Так Манюшка, девчонка, дочь соседа, колхозного сапожника, прибегала к ней каждый день, "чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар", а "Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную чёрную шляпу".
Речи о том, что почтарь Василий приносил старой женщине, помимо денежных переводов от дочери, ещё и пенсию, - не ведётся.
17.
При небольшой зарплате, у Насти - хорошие жилищные условия, комната в старинном доме с золотым потолком, в центре города, на реке Мойке, но, вероятно, в коммуналке. Как она получила такую должность (пусть и "рядовую") и жильё? Не благодаря ли связям с теми, кто ещё помнил её деда, но и, несомненно, своей начатой партийной карьере? Не дед ли оставил ей эту комнату?
Почему же мать не живёт вместе с дочерью в Ленинграде и так ли уж надо Настю за это винить?
Конечно, очень озадачивают отношения дочери и матери. При всей глубокой любви к дочери ("Ненаглядная моя", - так обращается мать к Насте в редких письмах, думает о ней дни и ночи, и даже в том, что не так уж часто пишет, тоже любовь - чтобы не тревожить, не мешать) между двумя самыми родными людьми за всю, вместе прожитую жизнь, не создалась атмосфера душевно-интеллектуальной потребности и заинтересованности дочери в матери, и списывать этот факт только на "бессердечность" девушки было бы неправильно.
Вспомним, как горюет Настя ещё в Ленинграде, осознав непоправимость происходящего, как в день получения телеграммы о том, что мать при смерти, спешно отправляется в путь, и нет у неё возможности отстучать ответную телеграмму; какую тяжёлую ночь в слезах проводит в Заборье.
Теперь Настя сама себе судья, и слова Тихона над телом Катерины Петровны, назидательно обращённые к дочери Манюшке "не быть пустельгой, за добро платить добром", - прямой и достаточно бестактный намёк на его собственное понимание отношений только что умершей матери и её ещё не приехавшей дочери.
Вдумчивому же читателю должно быть ясно: скорее, оба этих женских образа - определённая метафора, демонстрирующая два противопоставленных друг другу мира: России былой и России молодой, новой, и, несомненно, автору жаль разрушенного и исчезающего на глазах старого мира, который для него был связан с дворянскими усадьбами его предков, с духовностью и утончённой культурой.
18.
"В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза," - вот так и Катерина Петровна попала вместе с отцом в Заборье.
Сторож при пожарном сарае, Тихон, "еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.
Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберёг на всю жизнь".
Обратим внимание: художник вернулся в село из Петербурга, а не из Ленинграда, и ещё ранее, живя в Петербурге, приезжал оттуда " в своё родное село" строить дом и разбивать усадьбу. Почему это село было ему родным? Почему там не осталось дома его предков и надо было строить новый дом? И как из села в дореволюционной России мог выйти художник такой величины? Думается, что таким обиняком речь идёт о дворянском происхождении отца Катерины Петровны, об экспроприированной в революцию барской усадьбе, о "вишнёвых садах" российской дворянской интеллигенции. И это сбережённое почтение к старому художнику бывшего крестьянского мальчишки Тихона, как выходца из крепостных, можно понять.
19.
Так какую же жизнь прожила Катерина Петровна? Кто мог стать прототипом данного образа? В тексте упоминается одинокий клён в саду.
"Его она посадила давно, ещё девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи."
"Хохотушка" в девушках, и она же, постоянно плачущая, слабая, почти не видящая в старости, - вот её скорбный путь. Если её дочь Настя, видимо, всё-таки имеет художественное образование (она прекрасно разбирается в искусстве), полученное в советское время, то Катерина Петровна вряд ли избежала опеки домашних учителей и гимназии. Однако о её образовании в рассказе ни слова. Так же, как и о том, приходилось ли ей работать кем-то в советское время или до революции. Видимо, нет, поскольку она не получает пенсию. Но всё, что она освоила и знала и чем была духовно богата, мать, несомненно, передавала дочери, воспитывая Настю в высоко духовных дворянских традициях.
"За добро плати добром", - назидательно воспитывает сторож Тихон дочь Манюшку, и в его умолчании слышится осуждение Насти. А ведь Настя и платит за добро, полученное от матери, добром, но только тем людям, с которыми она связана по работе, людям, с которыми она не находится в родственных связях, и тем ценнее её помощь.
Не всякая старость сопровождается потерей зрения. В автобиографии К.Г.Паустовского можно прочесть, что в 1915 году на разных фронтах в один день погибли два его старших брата. У него осталась только больная, почти ничего не видевшая сестра.
Не облик ли беспомощной слепой сестры отчасти лёг в основу портретной характеристики Катерины Петровны? Там же, в автобиографии упоминается одна из родовитых бабушек писателя, увлекательно рассказывавшая ему, ребёнку, о своей незабываемой поездке вместе с отцом в Париж. Вот и от воспоминаний бабушки нашли важную деталь в тексте.
Думается, что не только образ Катерины Ивановны, дочери гравёра из Заборья, но и образы очень близких людей, дорогих сердцу автора, образы женщин его семьи, с такой тоской, любовью и сожалением отражённые в облике главной героини рассказа Катерине Петровне, и стали источником вдохновения автора.
20.
Почему же так назван рассказ? Телеграмма - это важное сообщение, передаваемое с помощью телеграфа. Важное известие мгло дойти до адресата во времена К.Г.Паустовского только таким путём.
В тексте даны две телеграммы. Первая послана Насте в Ленинград из Заборья сторожем Тихоном: "Катя помирает. Тихон". Вторая, написанная "на бланке корявыми буквами" самим Тихоном показана и прочитана им "неуверенным голосом" уже не встающей с постели Катерине Петровне: "Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя".
- Не надо, Тиша! - тихо сказала Катерина Петровна. - Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.
Сторож Тихон, единственный близкий Катерине Петровне в Заборье человек, кроме её отца, заботившийся о ней. Вот почему этот ласковый укор с обращением "Тиша", вот почему имя "Катя" в первой телеграмме, хотя мы не знаем, позволял ли он себе называть её так в общении с ней.
Интересно, что вторая телеграмма своим текстом констатирует изменение отношения Насти к матери, словно Тихон догадывается, в каком состоянии может добираться Настя до Заборья, словно очень желает ей нравственного перерождения.
Но, наверное, было бы слишком поверхностным считать заголовок отражением только этих двух телеграфных сигналов на бланках - за короткими строками, посланными адресату, может вставать более глубокий пласт проблем.
Современники Паустовского не могли не воспринимать "Телеграмму" Паустовского как обращение к себе лично. Художественное осмысление действительности писателем понуждало граждан нового социалистического государства к необходимости задуматься об отношении друг к другу, об отношении начальников к подчинённым, об отношении правительства к народу, о том, чтобы забота о человеке была бы не на словах, а на деле, и о том, что воспитательный призыв "раньше думать о Родине, а потом о себе и своих близких" - палка о двух концах, ведь разобщённость самых близких и дорогих людей не укрепляет государство, а подтачивает и ослабляет его. И этот посыл автора уже не отнесёшь к умолчаниям в силу его актуальности и по сей день.
21.
Из статьи Марии Коньковой "Марлен Дитрих и Константин Паустовский. История одной встречи".
"Прежде, чем обратиться к истории о встрече Марлен Дитрих и Константина Паустовского, я бы хотела привести одну из шести заповедей Иосифа Бродского выпускникам Мичиганского университета 1988 года: «И сейчас, и в грядущем постарайтесь по-доброму относиться к родителям. Не бунтуйте против них, ибо они умрут раньше вас, и таким образом вы избавите себя, если не от горя, то от чувства вины».
К чему это я? Широко известна фотография, на которой Константин Паустовский, а перед ним на коленях стоит Марлен Дитрих! Этот снимок сделан во время гастролей Дитрих в России в начале 1960-х. Она не раз признавалась: «Я бы хотела увидеть советского писателя Константина Паустовского. Это моя мечта много лет!»
Мировая звезда – и какой-то Паустовский?! И всё же Паустовского, уже полуживого, умирающего в дешевой больнице, разыскали. Объяснили суть нужной встречи. Но врачи запретили. Тогда компетентный товарищ попросил самого писателя. Но и он отказался. Потребовали! Не вышло. Пришлось – с непривычки неумело – умолять. Умолили...
И вот при громадном скоплении народу вечером на сцену ЦДЛ вышел, чуть пошатываясь, худой старик. А через секунду на сцену вышла легендарная звезда, подруга Ремарка и Хемингуэя, – и вдруг, не сказав ни единого слова, молча встала перед ним на колени. А потом, схватив его руку, начала ее целовать и долго потом прижимала эту руку к своему лицу, залитому абсолютно не киношными слезами. И весь большой зал беззвучно застонал и замер. И только потом вдруг – медленно, неуверенно, оглядываясь, как бы стыдясь чего-то! – начал вставать. И встали все. И чей-то женский голос вдруг негромко выкрикнул что-то потрясенно-невнятное, и зал сразу прорвало просто бешеным водопадом рукоплесканий!
А потом, когда замершего от страха Паустовского усадили в старое кресло и блестящий от слез зал, отбив ладони, затих, Марлен Дитрих тихо объяснила, что прочла она книг как бы немало, но самым большим литературным событием в своей жизни считает рассказ советского писателя Константина Паустовского «Телеграмма», который она случайно прочитала в переводе на немецкий в каком-то сборнике, рекомендованном немецкому юношеству.
И, быстро утерев последнюю слезу, Марлен сказала – очень просто: «С тех пор я чувствовала как бы некий долг – поцеловать руку писателя, который это написал. И вот – сбылось! Я счастлива, что я успела это сделать. Спасибо вам всем – и спасибо России!»
В мемуарах Марлен мы находим восхищение рассказом Константина Паустовского «Телеграмма». Само слово «Телеграмма» уже рождает тревогу. Вся жизнь Марлен Дитрих была наполнена тревогой за происходящее вокруг, тревогой за судьбы мира. Она считала, что будущее находится в руках каждого из нас, и каждый может изменить окружающий мир, сделать его добрее и краше. Как известно, у Паустовского большую роль в произведениях играет пейзаж. В «Телеграмме» осенний пейзаж холоден и бесприютен, чаще всего автор использует слово «холодный». Холодный взгляд и на большинстве фотографий Марлен Дитрих. Одинокий подсолнух, озябший клен, позабытые звезды – вот приметы холодной осени у Паустовского. Холод осени выражает страшное одиночество, пустоту вокруг старой женщины, главной героини. Пейзаж психологически точно передает состояние героев. Тема одиночества была актуальной и для Марлен, страшно боявшейся одиночества, гнавшей его прочь. «К одиночеству, в конце концов, привыкаешь, но примириться с ним трудно», – говорила она. В рассказе Паустовского есть и осмысление нравственных проблем, от которых Марлен не могла находиться в стороне: разобщенность близких людей, нежелание показать свои чувства, жить ими.
Сюжетную основу «Телеграммы» составляет история о том, как дочь уезжает из деревни на работу в город и в городской суете забывает про свою пожилую мать, которая нуждается в ее внимании. Настя находит время приехать к матери слишком поздно – только когда та умирает, о чем ей и сообщают в телеграмме.
С большой долей вероятности эта тема могла быть очень близка и самой Марлен. Мы знаем, как она любила свою мать: «Моя мать была достойной представительницей старинной уважаемой семьи, воплощением истинной порядочности. Я всегда испытывала к ней глубочайшее уважение». Но, уехав в Голливуд ради карьеры, оставив мать на долгие годы без необходимого внимания, Марлен забывает о ней. И это – в годы войны! В 1945 году Марлен дважды прилетает в Берлин – девятнадцатого сентября, чтобы все же увидеть мать, а шестого ноября, чтобы ее похоронить. Вот вам и история из «Телеграммы»! Оказывается, все можно потерять в суете жизни.
Эпиграф к рассказу Паустовского «Телеграмма» мог бы быть таким: «Материнское сердце в детях, а детское – в камне». Если перевести эту мысль на плоскость отношений Марлен и ее дочери Марии, вновь возникают некоторые совпадения. Из интервью Марии Ривы: «Я никогда не любила свою мать. Она была королевой, а я, мой отец и все другие были ее слугами… У меня огромное почтение к Дитрих, она была солдатом в работе, обязательной, чрезвычайно дисциплинированной. Но Марлен как Человека я уважаю очень мало...»".
22.02.12 - 03.03.12
Приложения.
1.
Рассказ К.Г.Паустовского " Телеграмма":
http://smartfiction.ru/prose/telegram/
2.
Глава " Зарубки на сердце" из повести Г.К.Паустовского " Золотая роза", стр.4-5:
3.
Песня Сольвейг. Эдвард Григ.
http://www.youtube.com/watch?v=4E0BoQgSPk8
Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.
Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.
Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.
По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо.
Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта – портрет ее отца, а вот эта – маленькая, в золотой раме – подарок Крамского, эскиз к его «Неизвестной». Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом – известным художником.
В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.
Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала. А в селе – называлось оно Заборье – никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.
Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, – девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.
Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу.
– На что это мне? – хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. – Тряпичница я, что ли?
– А ты продай, милая, – шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. – Ты продай.
– Сдам в утиль, – решала Манюшка, забирала все и уходила.
Изредка заходил сторож при пожарном сарае – Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.
Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал:
– Работа натуральная!
Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:
– Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?
Катерина Петровна молчала, сидя на диване – сгорбленная, маленькая, – и всё перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.
– Ну что ж, – говорил он, не дождавшись ответа. – Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.
– Иди, Тиша, – шептала Катерина Петровна. – Иди, бог с тобой!
Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме, – без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.
Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья.
Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.
Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.
Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.
Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.
Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами.
Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.
Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.
Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:
– Кто стучит?
Но за забором никто не ответил.
– Должно быть, почудилось, – сказала Катерина Петровна и побрела назад.
Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.
Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.
«Ненаглядная моя, – писала Катерина Петровна. – Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, – смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет – совсем уж не тот, – да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».
Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь, – что там? Но внутри ничего не было видно – одна жестяная пустота.
Настя работала секретарем в Союзе художников. Работ«было много, Устройство выставок, конкурсов – все это проходило через ее руки.
Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая, – решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет – значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором.
После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться.
На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась, – сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза.
Открыл сам Тимофеев – маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.
– Не раздевайтесь, – буркнул Тимофеев. – А то замерзнете. Прошу!
Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.
Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамках и шевелил на полу старые газеты.
– Боже мой, какой холод! – сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам.
– Вот, полюбуйтесь! – сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. – Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары.
– Вы не любите Першина? – осторожно спросила Настя.
– Выскочка! – сердито сказал Тимофеев. – Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница – каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал!
– Покажите мне вашего Гоголя, – попросила Настя, чтобы переменить разговор.
– Перейдите! – угрюмо приказал скульптор. – Да нет, не туда! Вон в тот угол. Так!
Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал:
– Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу!
Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка.
«А письмо-то в сумочке нераспечатанное, – казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. – Эх ты, сорока!»
– Ну что? – опросил Тимофеев. – Серьезный дядя, да?
– Замечательно! – с трудом ответила Настя. – Это действительно превосходно.
Тимофеев горько засмеялся.
– Превосходно, – повторил он. – Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьящ, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь – превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкнет – и готово. А Першин хмыкнул – значит, конец!… Ночи не спишь! – крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. – Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!
Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.
– Это все о Гоголе! – сказал он и вдруг успокоился. – Что? Я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться.
– Ну что ж, будем драться вместе, – сказал Настя и встала.
Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности.
Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился.
Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золоченым потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.
– Куда там сейчас ехать! – сказала она и встала, – Разве отсюда вырвешься!
Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней – и положила письмо в ящик письменного стола.
Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева.
Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.
– Ни черта у вас не получится, дорогая моя, – со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку. – Зря я только трачу время, честное слово.
Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уязвленной гордости, что они наигранны и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке.
Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.
– Мертвый свет! – ворчал он. – Убийственная скука! Керосин и то лучше.
– Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип? – вспылила Настя.
– Свечи нужны! Свечи! – страдальчески закричал Тимофеев. – Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу. Абсурд!
Нa открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась.
Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке:
– Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю!
Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи.
Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано.
В дверях появилась курьерша из Союза – добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму.
Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла:
«Катя помирает. Тихон».
«Какая Катя? – растерянно подумала Настя. – Какой Тихон? Должно бить, это не мне».
Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье».
Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Перший.
– В наши дни, – говорил он, покачиваясь и придерживая очки, – забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны – да не в обиду будет сказано нашему руководству – одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне.
Перший поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез.
Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник.
– Что? – спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму. – Ничего неприятного?
– Нет, – ответила Настя. – Это так… От одной знакомой…
– Ага! – пробормотал старик и снова стал слушать Першина.
Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть? – подумала она. – Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».
Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: – «Эх, ты!»
Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.
Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.
«Ненаглядная моя, – вспомнила Настя недавнее письмо. – Ненаглядная!»
Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами.
Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье.
«Поздно! Маму я уже не увижу», – сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово – «мама».
Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо.
«Что ж что, мама? Что? – думала она, ничего не видя. – Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила».
Настя вышла на Невский проспект, к городской станции железных дорог.
Она опоздала. Билетов уже не было.
Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд.
Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.
– Что с вами, гражданка? – недовольно спросила она.
– Ничего, – ответила Настя. – У меня мама… Настя повернулась и быстро пошла к выходу.
– Куда вы? – крикнула кассирша. – Сразу надо было сказать. Подождите минутку.
В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком.
…Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне.
Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть.
Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала: живая?
Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась.
В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала – от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка.
Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.
– Что, Тиша? – бессильно спросила Катерина Петровна.
– Похолодало, Катерина Петровна! – бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. – Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет – значит, и ей будет способнее ехать.
– Кому? – Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.
– Да кому же другому, как не Настасье Семеновне, – ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. – Кому, как не ей.
Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.
– Вот! – сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне.
Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона.
– Прочти, – сказала Манюшка хрипло. – Бабка уже читать не умеет. У нее слабость в глазах.
Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».
– Не надо, Тиша! – тихо сказала Катерина Петровна. – Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.
Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула.
Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны.
Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.
– Не дождалась, – пробормотал Тихон. – Эх, горе ее горькое, страданье неписаное! А ты смотри, дура, – сказал он сердито Манюшке, – за добро плати добром, не будь пустельгой… Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.
Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела не отрываясь на Катерину Петровну.
Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры.
На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины – старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и не мигая смотрела перед собой.
Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишаев вербы.
По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в Заборье не знала.
– Учителька идет, учителька! – зашептали мальчишки.
Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать – вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая.
Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей трудно будет первое время с ребятами – уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные.
Учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабку Матрену:
– Одинокая, должно быть, была эта старушка?
– И-и, мила-ая, – тотчас запела Матрена, – почитай что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем ей слова сказать. Такая жалость! Есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников.
На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде.
За оградой, в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля.
Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи – предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину.
В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище – земля на нем смерзлась комками – и холодную темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно.
В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет.
Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.
Рассказ «Телеграмма» Паустовский написал в 1946 году. В произведении автор затрагивает извечную для русской литературы проблему взаимоотношений родителей и детей. Описывая хмурые картины дождливой осени, Паустовский соотносит состояние природы с душевным состоянием Катерины Петровны.
Главные герои
Катерина Петровна – старая женщина, доживающая свои последние дни в одиночестве; мать Насти.
Настя – дочь Катерины Петровны; уехав в Ленинград, очень редко навещала старенькую мать.
Другие герои
Тихон – сторож пожарного сарая.
Манюшка – дочь сапожника.
Октябрь был холодный, шли дожди. Катерине Петровне стало «труднее вставать по утрам и видеть все то же» . Отец женщины был известным художником, он и построил этот дом в селе Заборье. Здесь Катерине Петровне не с кем было поговорить ни о картинах, ни об искусстве.
Каждый день к ней прибегала дочь соседа, колхозного сапожника, Манюшка и помогала женщине по хозяйству. Изредка заходил сторож при пожарном сарае – тощий рыжий Тихон, заставший еще время, когда этот дом строился.
Катерина Петровна каждый день думала о дочери Насте, которая жила сейчас в Ленинграде. Последний раз девушка приезжала три года назад. «Писем от Насти тоже не было» , но раз в два-три месяца Катерина Петровна получала от нее перевод на двести рублей.
Как-то в конце октября кто-то постучал в калитку в саду, но там никого не оказалось. В ту же ночь женщина написала Насте письмо о том, что она не переживет эту зиму. Попросила приехать хотя бы на день.
Настя работала секретарем в Союзе художников. Художники звали Настю «Сольвейг» – «за русые волосы и большие холодные глаза» . Письмо она решила прочесть позже. Письма матери вызывали у нее, с одной стороны, «вздох облегчения: раз мать пишет - значит, жива» , а с другой, становились «безмолвным укором» .
Как раз в это время Настя занималась организацией выставки молодого скульптора. В его мастерской внимание девушки привлекла скульптура Гоголя, который насмешливо и с укором смотрел на нее, словно напоминая о нераспечатанном в сумочке письме.
Прочтя письмо матери, Настя тут же подумала о долгом пути, «неизбежных материнских слезах» и спрятала конверт в ящик письменного стола.
Через две недели выставка состоялась. Все поздравляли скульптора и благодарили Настю. Неожиданно курьер принесла девушке телеграмму: «Катя помирает. Тихон» . Настя сначала подумала, что телеграмма адресовалась не ей, но в бумажной ленте значилось «Заборье» . Старый художник спросил у нее, что случилось. Девушка ответила, что «Это так… От одной знакомой» . Неожиданно ей снова показалось, будто Гоголь смотрит на нее, говоря: «Эх, ты!» .
Настя торопливо выбежала на улицу. Она поняла, что ее никто так не любил, «как эта дряхлая, брошенная всеми старушка» . Девушка пошла к станции железных дорог. Билетов не было, но кассир помогла ей.
Катерина Петровна не вставала уже десять дней, ей было трудно дышать. Манюшка шестые сутки сидела возле женщины. Тихон, чтобы как-то утешить Катерину Петровну, сам написал телеграмму и сказал, что она от ее дочери: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя» . Женщина поблагодарила его, повернулась к стене и как будто уснула – умерла.
На следующий день Катерину Петровну хоронили, собралось много людей. Когда гроб несли на кладбище, к ним подошла молодая учительница. Она вспомнила о своей матери и поцеловала умершую Катерину Петровну в руку.
Настя приехала в Заборье на второй день после похорон. Вернувшись домой, девушка проплакала всю ночь. «Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести».
Заключение
В рассказе «Телеграмма» образ Насти неоднозначен. Девушка не лишена сочувствия, она готова помогать другим. Однако по отношению к матери она не проявляла должной заботы. Стараясь отгородиться от всего, что происходило в Заборье, она пропустила и смерть родного человека.
Пересказ «Телеграммы» поможет быстро вспомнить сюжет рассказа, подготовиться к уроку литературы.
Тест по рассказу
Проверьте запоминание краткого содержания тестом:
Рейтинг пересказа
Средняя оценка: 4.1 . Всего получено оценок: 2225.
Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.
Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.
Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.
По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи пере, стали гонять в луга стадо.
Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта – портрет ее отца, а вот эта – маленькая, в золотой раме – подарок Крамского, эскиз к его «Неизвестной». Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом – известным художником.
В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.
Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала. А в селе – называлось оно Заборье – никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.
Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, – девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.
Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу.
– На что это мне? – хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. – Тряпичница я, что ли?
– А ты продай, милая, – шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. – Ты продай.
– Сдам в утиль, – решала Манюшка, забирала все и уходила.
Изредка заходил сторож при пожарном сарае – Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.
Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал:
– Работа натуральная!
Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:
– Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?
Катерина Петровна молчала, сидя на диване – сгорбленная, маленькая, – и всё перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.
– Ну что ж, – говорил он, не дождавшись ответа. – Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.
– Иди, Тиша, – шептала Катерина Петровна. – Иди, бог с тобой!
Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме, – без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.
Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья.
Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.
Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.
Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Кате.рину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.
Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.
Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами.
Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.
Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.
Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:
– Кто стучит?
Но за забором никто не ответил.
– Должно быть, почудилось, – сказала Катерина Петровна и побрела назад.
Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.
Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.
«Ненаглядная моя, – писала Катерина Петровна. – Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, – смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет – совсем уж не тот, – да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».
Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь, – что там? Но внутри ничего не было видно – одна жестяная пустота.
Настя работала секретарем в Союзе художников. Работ«было много, Устройство выставок, конкурсов – все это проходило через ее руки.
Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая, – решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет – значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором.
После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться.
На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась, – сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза.
Открыл сам Тимофеев – маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.
– Не раздевайтесь, – буркнул Тимофеев. – А то замерзнете. Прошу!
Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.